От туберкулёза до сих пор больше миллиона человек в год. В разные времена его «кладбищенским кашлем», «белой смертью», чахоткой и «белой чумой». Но в какой-то момент на туберкулёз стали чуть ли не молиться, а больных им женщин провозгласили идеалом возвышенности и красоты.
Рука короля и волшебные монеты: чем лечили туберкулёз
Туберкулёз — инфекционное , которое чаще всего поражает лёгкие. Среди симптомов — кашель с кровью, боль в груди, лихорадка и потеря веса. Считается, что бактерии, которые вызывают туберкулёз (Mycobacterium), ещё 150 миллионов лет назад. Чем-то похожим могли заразиться предки первых людей в Восточной Африке. Учёные также нашли древнеегипетские мумии с деформированными как при туберкулёзе скелетами. Похожие аномалии изображали египетские художники на фресках, а вот в папирусах о нём не писали.
Первые письменные упоминания туберкулёза около 3000 лет назад в Индии и Китае. Про туберкулёз писал и древнегреческий врач Гиппократ, живший в V веке до нашей эры. В своих трудах он назвал эту болезнь «фтизиатрией» и отметил, что она особенно опасна для молодых людей. В 174 году нашей эры туберкулёзом переболел римский император Марк Аврелий. У него была лихорадка с кровавым кашлем. Врач императора посоветовал ему лечиться свежим воздухом, молоком и морскими путешествиями.
Ещё более оригинальный метод лечения придумали в Средневековье уже после распада Римской империи. Средневековые врачи верили, что одну из форм туберкулёза — золотуху — можно вылечить прикосновением короля. Из-за этого болезнь даже прозвали «королевским злом». Одним из первых с ней стал англосаксонский король Эдуард Исповедник в XI веке. Он устраивал торжественные церемонии, где «исцелял» подданных наложением рук. От ритуала выигрывали все: король подчёркивал свою сакральную власть, «простые смертные» получали возможность встретиться с монархом. Кстати, с XV по XVII век просителям ещё и вручали чеканную золотую монету. Её носили на шее как талисман и тоже считали целебной — всё-таки сам король прикасался.
Традиция «королевского лечения» туберкулёза прижилась и у английских, и у французских монархов, её практиковали веками. В Англии ей конец только к XVIII веку. Но до адекватного отношения к туберкулёзу и его лечению было ещё далеко.

Горящая изба / Midjourney
«Харкать кровью — хороший тон»: как туберкулёз стали воспевать
Всплеск туберкулёза на XIX век. В это время Западную Европу индустриальная революция. Города как грибы, людей в них было слишком много, а еды и чистой воды на всех не хватало. А где , там и инфекции. Очень быстро туберкулёз в главную причину смерти европейцев. На рубеже веков в Лондоне от него умирал каждый десятый горожанин. Откуда туберкулёз берётся, врачи при этом точно . Они предполагали, что всё дело в наследственности и «дефектах строения». В Новой Англии вообще , что умершие от туберкулёза возвращаются в виде вампиров, чтобы заразить своих родственников.
Туберкулёз прозвали «белой чумой». Она выкашивала и бедняков, и цвет нации — знаменитых , музыкантов и писателей. В этом сёстры Бронте, английский поэт Джон Китс и русский критик Виссарион Белинский. Удивительно, но в это же время туберкулёз перестал быть просто болезнью. Его чем-то вроде трагического дара, который побуждает творить. Или своеобразного искупления — например, заболевшая секс-работница «платила» за свои грехи страданиями и смертью. Это возвышало её в глазах общества. Как французский классик Александр Дюма: «В 1823–1824 годы было модно страдать лёгкими. Все были чахоточными, особенно поэты. Хорошим тоном считалось харкать кровью после каждой мало-мальски ощутимой эмоции и умирать, не дожив до 30 лет».
Восхищение туберкулёзом возникло не на пустом месте. В конце XVIII и первой половине XIX века в европейском искусстве царил . Это художественное направление ставило во главу угла эмоции и индивидуальность. Его герои — страдающие, , одинокие и возвышенные. Туберкулёзных больных видели как раз такими. Астеничные, с лихорадочным румянцем, блестящими глазами и бледной кожей, они были словно из другого мира.
Сам туберкулёз тоже считали эстетичным. Он был на другие привычные недуги — оспу и сифилис, которые уродовали сыпью и провалившимся носом. Туберкулёз поначалу затаивался внутри и давал о себе знать уже ближе к последним дням. В большинстве случаев диагноз означал смертный приговор, но у больного было время закончить земные дела. Смерть от туберкулёза при этом считали лёгкой, «красивой» и безболезненной — идеальной для христианина. Многие о такой буквально мечтали. Туберкулёз описывали в стихах и романах, изображали на картинах, о нём даже пели в .
«Прекрасная леди Мэри! — как она могла умереть? — и от чахотки! Но я молился о том, чтобы пойти по этому пути. Я бы хотел, чтобы все, кого я люблю, умерли от этой лёгкой болезни. Как славно! Уйти в расцвете молодости, когда в сердце кипит страсть, а воображение пылает огнём».
«Метценгерштейн»
По слухам, мечтал умереть от чахотки и мрачный английский романтик Джордж Байрон. Он думал, что такая трагическая кончина точно впечатлит дам, и тогда они : «Посмотрите на бедного Байрона — как интересно он выглядит при смерти».
Такие романтические представления о туберкулёзе, конечно, не отражали действительность. Людей, которые сталкивались с болезнью, часто ждал шок. В чахотке не было ничего поэтичного: опухшие суставы, судорожные вздохи, мучительный кашель и синие ногти. Об этих подробностях писатели упоминали . И туберкулёз оставался литературным мифом — красивой болезнью молодых гениев.
Как «чахоточная дева» стала стандартом женской красоты
Всеобщее помешательство на туберкулёзе не обошло стороной женщин. Общество , что именно туберкулёз помогает им оставаться красивыми (а быть красивыми надо было даже при смерти). Хорошее здоровье было чем-то приземлённым, чахотка — возвышенным и артистичным. Кто-то даже её с женской сексуальностью.
Женщины старались соответствовать идеалу. Они стремились казаться , бледными, слабыми, с раскрасневшимися щеками и блестящими глазами. Чтобы добиться такого вида, многие прибегали к хитростям. Например, старательно лицо мышьяком. Менее экстремальный рецепт в себя дёготь и оливковое масло. Для заветной туберкулёзной бледности смесь нужно было втирать в лицо перед сном. Такой «уходовой» косметике отдавали предпочтение многие. С декоративной важно было не переборщить: очевидно накрашенных женщин в то время считали «аморальными».

Горящая изба / Midjourney
Тонкую фигуру женщины подчёркивали нарядами — в викторианскую эпоху в моде были утягивающие талию корсеты, пышные юбки и платья . Крой последних подразумевал открытые торчащие ключицы и лопатки. Подчёркнутые худоба и сутулость были той самой параллелью с чахоточными больными, которая лишний раз напоминала о болезни окружающим.
Образ хрупкой «чахоточной девы» идеально наложился на викторианские представления о женщине и её месте в обществе. В Англии XIX века царил культ «ангела в доме» — хрупкого и беспомощного существа, которое полностью зависело от мужчины. Одновременно с этим врачи в один голос утверждали, что женский организм очень хрупкий, болезненный и не может вынести даже езду на велосипеде.
Готовить к роли «ангела в доме» начинали с самого детства. Девочек в школы, где они целыми днями сидели в классе и совсем не играли на свежем воздухе. В свободное время они или вышивали, или рисовали дома, что тоже не особо укрепляло организм. Подросших девушек стискивали тугими корсетами. Они мешали нормально дышать и двигаться, зато добавляли той самой модной «хрупкости», которой восхищались современники.
Неудивительно, что женщины действительно часто болели чахоткой. Сам образ жизни добропорядочной девушки располагал к этому. Тех больных, которые выносили тяготы «с достоинством», считали примером благочестия. Английская писательница Кэролайн Лики вспоминала, что у её умиравшей от туберкулёза сестры буквально было «лицо ангела» (хотя в последние дни её «искушал дьявол»). От религиозных сравнений женщинам было не скрыться ни в собственном доме, ни на смертном одре. Они как будто жили в замкнутом круге, где чем больше терпишь и страдаешь, тем возвышеннее становишься.
Одной из самых известных туберкулёзниц XIX века французская куртизанка Мари Дюплесси. Некоторые исследователи , что во многом именно благодаря ей туберкулёзом вообще стали восхищаться. На портретах её изображали неземной красавицей с белоснежной кожей, огромными глазами и смоляными волосами. Дюплеси от туберкулёза в 23 года, и даже при смерти она была прекрасна. По крайней мере, такой её английский художник Генри Линтон.
На его гравюре нет ни крови, ни гримасы боли — девушка спокойно лежит, как будто даже с гордым выражением лица. Кстати, именно она стала Маргариты Готье — героини романа Александра Дюма «Дама с камелиями». Маргарита — тоже красивая куртизанка — умирает от туберкулёза. Но в то же время она живёт свою лучшую жизнь, принимает гостей и ложится спать под утро. И даже успевает завести любовника. Смерть Маргариты автор тоже . Она лежала неподвижно и «была готова вознестись на небо, если Бог видел испытания её жизни и святость её смерти».
И туберкулёз, и женскую смерть от него в искусстве изображали по-разному. Если тот же Дюма всё-таки упоминал о предсмертной агонии Маргариты, на некоторых картинах женщины умирали в полном умиротворении. Пример — английского художника и фотографа Генри Пича Робинсона «Угасание». Для XIX века она была : Робинсон пять разных негативов, чтобы получить изображение умирающей молодой женщины в кругу близких. На её лице не видно мучений, она кажется спокойной. Похожая сцена была и в романе Гюго «Отверженные». Его героиня Фантина всю жизнь страдала от голода, нищеты и людской жестокости. Смерть от туберкулёза для неё стала от мучений: на её губах показалась блаженная улыбка, а лицо «озарило непостижимое сияние». Смерть стала «переходом к вечному свету».
Конец «чахоточной моды»: как туберкулёз перестали романтизировать и стали лечить
В 1882 году случилось то, чего никто не ждал. Немецкий микробиолог Роберт Кох причину туберкулёза — вид микобактерий, которые получили название «палочка Коха». Он своё открытие на заседании Берлинского физиологического общества, и очень скоро оно потрясло весь мир. Врачи поняли, что туберкулёз — инфекционное заболевание, а не метка гения или роковой дар судьбы. С него романтичный флёр, которым его так старательно окружали. Из загадочного недуга туберкулёз превратился в общественную проблему.
В последующие десятилетия учёные разные способы победить болезнь. Так туберкулиновые пробы Паркета и Манту и вакцина Альбера Кальметта и Камиля Герена (БЦЖ). Массово вакцинировать от туберкулёза начали только в 1920‑е годы — и то поначалу не во всех странах. Прошло ещё 20 лет, прежде чем туберкулёз стали лечить первыми антибиотиками. Одновременно с этим врачи рассказывали пациентами о болезни и отправляли их в туберкулёзные санатории. Там лечение к прогулкам на свежем воздухе и хорошему питанию. А ещё врачи практиковали хирургические операции вроде торакопластики (удаляли части ребёр, чтобы уменьшить объём грудной клетки).
Сегодня туберкулёз можно не только вылечить, но и . Есть специальные лекарства, которые инфекции развиться в активное заболевание. Плюс каждый может заранее провериться на туберкулёз — например, если человек в группе риска из-за диабета, рака или ВИЧ.
Сама болезнь при этом никуда не исчезла. Хотя теперь едва ли кто-то мечтает умереть в 25 лет, захлебнувшись собственной кровью. Романтизация туберкулёза осталась в прошлом, если не считать пары редких примеров из тиктока, где про «туберкулёзный макияж» вдруг вспомнили после премьеры хоррора «Носферату». Но восхищаться болезненным видом в целом общество не перестало. Тренд на оземпиковую худобу, кажется, не так уж сильно отличается от тренда на чахоточную.




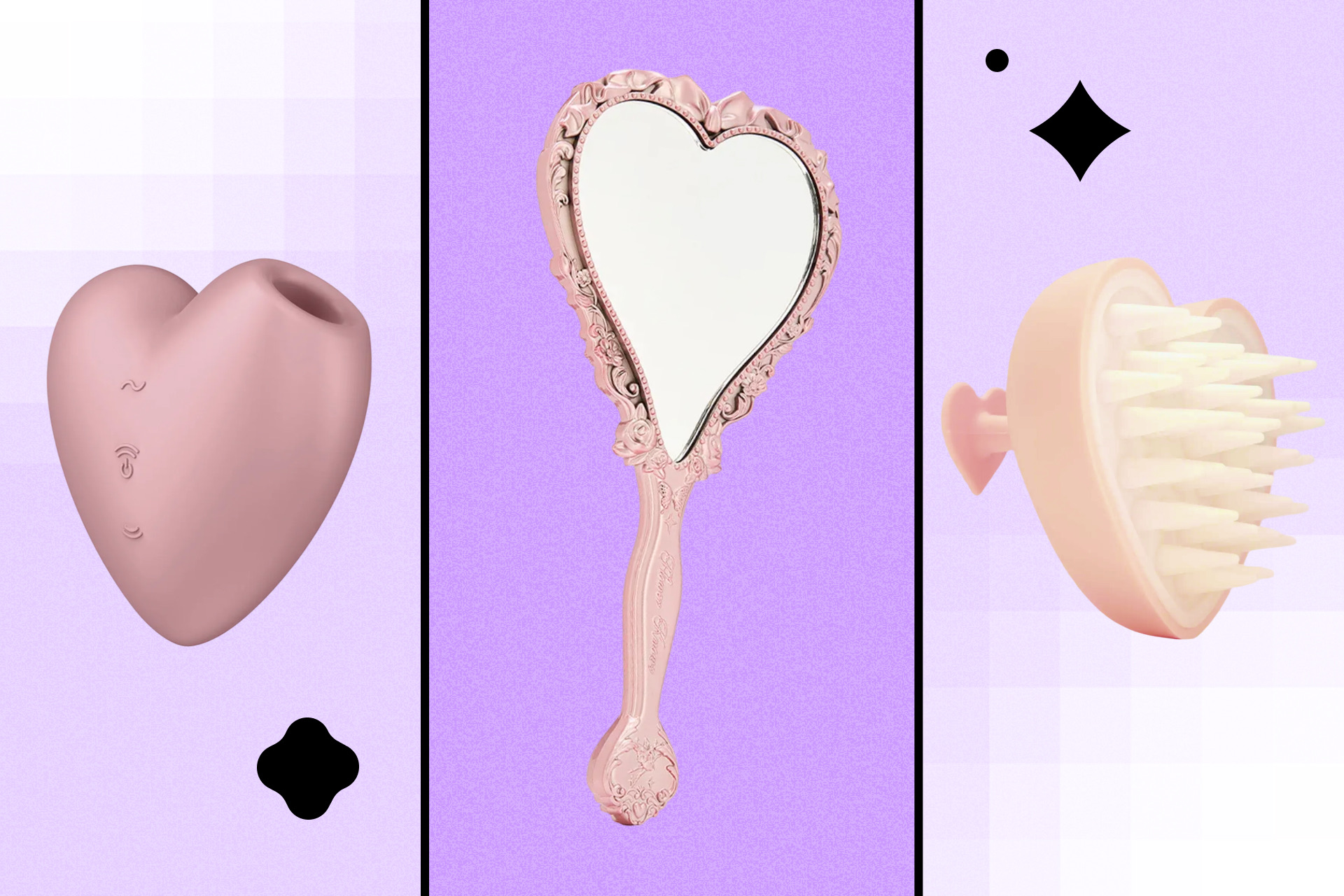



Станьте первым, кто оставит комментарий