28 января 1906 года открылись женские политехнические курсы. Это стало настоящим прорывом: женщины получили возможность изучать инженерное и архитектурное дело, химию и другие точные науки. С тех пор прошло почти 120 лет, но стереотип о том, что техническое образование — не для женщин, никуда не исчез. Разбираемся, как так вышло — и как женщины боролись за право быть инженерками.
Как начиналось женское техническое образование в России
Вопрос о высшем женском образовании в России стоял ещё с 1860‑х — вместе с «женским вопросом», ознаменовавшим первую волну феминизма. В начале десятилетия на лекциях в университетах стали появляться девушки, но делать это им скоро — Университетским уставом 1863 года.
Доступ к высшему образованию для женщин в стране был закрыт. Чтобы его получить, они массово уезжали за границу — например, в Цюрихском университете целое поселение россиянок.
С 1869 года в стране открываются женские курсы. Аларчинские в Петербурге, Лубянские в Москве, а ещё — в Казани, в Киеве и в Сибири. И конечно, знаменитые Бестужевские в 1878 году — именно они были главным источником революционных настроений у женщин. В итоге вышел указ 1886 года, запрещавший приём слушательниц на женские курсы — его действие фактически прекратилось только через десять лет, с созданием Курсов воспитательниц и руководительниц физического образования.
Всё это время на высших женских курсах преподавали естественные и точные науки: например, «бестужевкам» преподавали химики Дмитрий Менделеев и Александр Бутлеров. Однако специализированных технических заведений для женщин в России не было вплоть до начала XX века.
Женские политехнические курсы только в 1906 году по инициативе бывшей «бестужевки» — Прасковьи Ариян. Уже в первый год было подано более 700 заявлений на поступление: конкурс достигал трёх человек на место, а само обучение было невероятно суровым. Все воспитанницы изучали элементарную математику, начертательную геометрию, физику, химию, геодезию, черчение и рисование.
Студентки могли выбрать отделение — инженерно-строительное, химическое, электромеханическое или архитектурное. Последнее, кстати, пользовалось особым успехом: архитектуру преподавал сам Леонтий Бенуа, автор Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости, доходного дома Первого Российского страхового общества и многих других архитектурных памятников. А ещё курсисток обучали архитектор Фёдор Лидваль, основоположник российской Александр Маковецкий и многие другие профессора и члены Академии наук.
Но ученицы Бенуа и Маковецкого не имели права работать по специальности!
Они могли только преподавать в школе и не получали учёной степени — и это при том что курсы были недешёвыми. Год обучения стоил 100, а затем и 125 рублей — на наши деньги это почти . Для сравнения: год обучения в Бауманке в 2024 году от 307 тысяч — дороже, но зато по специальности работать можно всем.
Курсы юридически стали высшим учебным заведением лишь в 1911 году, когда был подписан «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных заведений и о порядке приобретения ими учёных степеней и звания учительниц». После этого выпускницы политехнических курсов наконец смогли быть докторками наук и работать по специальности — но не без сложностей. Например, одна из первых выпускниц курсов Александра Соколова-Маренина после окончания обучения работать в США. Там её не брали нигде — ровно до того дня, пока она не решила переодеться в мужчину.
Тем не менее казалось, что скоро в технических профессиях наступит равноправие: многие выпускницы политехнических курсов поучаствовали в значимых для Петербурга проектах — например, гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади и дома Гвардейского экономического общества на Большой Конюшенной, а с приходом к власти большевиков появился запрос на формирование «новой женщины» — сильной, независимой, способной строить социализм наравне с мужчинами.
Что было после курсов?
Учиться отдельно женщинам в начале советского периода не было смысла: в 1918 году политехнические курсы вошли состав Второго Петроградского Политехнического института, а в 1924 году и сам институт упразднили. Его студентов — и студенток, бывших учениц политехнических курсов, — перевели в Первый Политехнический институт, Академию художеств (сейчас — ВХУТЕИН) и Институт гражданских инженеров.
Казалось бы, с риторикой про «новую женщину» стереотипы об инженерках, докторках и представительницах других «неженских» профессий должны исчезнуть. Но их стало не сильно меньше: в 1930‑х «новая женщина» стала синонимом современного феминистского термина «вторая смена».
Риторика была такой: гражданка Советского Союза по умолчанию должна быть героиней — днём работать на заводе, а вечером воспитывать детей и готовить.
Не все такой темп выдерживали — женщины подвергались за это критике, а стереотипы оставались.
В итоге во второй половине XX века в СССР вновь стали продвигать идею о том, что важнее тихое женское счастье, а не карьера в «мужской» профессии — и да, сейчас будет пример из фильма «Москва слезам не верит». Катя, главная героиня культового фильма, работает на заводе — вначале штамповщицей и слесарем-наладчиком, а позже — директоркой химкомбината. Но весь фильм она несчастлива — и счастье обретает только в браке, прямо как её подруга Тоня, которая изначально не мыслила для себя «по-мужски» большой карьеры. Разные женские типажи в фильме как будто не оставляют выбора: да, вот можно попробовать себя в карьере, но в итоге всё равно приходишь к необходимости выйти замуж.
То, насколько часто этот фильм упоминается даже сегодня, уже говорит о его влиянии — а значит, и о распространении той самой установки о женском счастье и сейчас.
Кстати. А что сейчас?
За последние десять лет среднее число девушек в технических вузах 25% от общего числа студентов. Это значит, что стереотипы дают о себе знать ещё на этапе выбора профессии: например, родители сыновьям IT-карьеру в три раза чаще, чем дочерям — при том что код, написанный женщиной, чаще.
Стереотипы в техническом образовании бывают самые разные — начиная от того, что «курица не птица, женщина не инженер», и заканчивая желанием поступить в технический вуз, только чтобы «удачно выйти замуж». Собрали истории о некоторых из них.
Когда поступала в вуз, реакцией на мою распространённую фамилию была фраза «ничего, поступишь к нам, обязательно сменишь». Это, конечно, может показаться безобидной шуткой, это всё же не то, что ждёшь при подаче аттестата. Позже ждали фразы «А вас (девушек, женщин) развелось тут последнее время», «девушки должны молчать, тогда за умных сойдут» и доброжелательный сексизм — например, хорошие оценки за короткую юбку, особенно от преподавателей старшего поколения.
Если в моём вузе провести опрос, почему студенты выбрали техническую специальность, многие мальчики не смогут ответить — а девочки могут привести десятки аргументов в пользу выбора своей профессии. При этом девочкам предъявляется так называемая «скидка на интеллект»: преподаватель автоматически может подумать, что ты что-то недоделала или сделала неправильно или что ты в принципе некомпетентна в предмете, потому что «не женское это дело». Стереотип про «найти себе мужа» в мою сторону прилетал один раз, причём от женщины-преподавателя, что тоже показательно.
На первом курсе мы с двумя друзьями занимались проектной деятельностью — к нам приставили куратора-магистранта. Мы хорошо общались, и он знал меня как очень хорошую студентку — я была отличницей, бакалавриат и магистратуру окончила с красными дипломами. Как-то раз мы что-то обсуждали — и тут этот магистрант заявил, что хороших девушек-программисток не бывает, бывают только хорошенькие. Потом до него дошло, что он ляпнул, — и он начал бубнить, что бывают, конечно, исключения. Осадочек остался, да и выяснилось, что общие настроения в IT — такие же по вайбу: сама не помню, где в первый раз слышала стереотип, что девочки идут только во фронтенд, но он очень распространён.
Наш преподаватель по культурологии — непрофильному предмету — каждую пару в очень агрессивной манере возмущался, что в техническом вузе слишком много девочек. Мол, мы здесь только время теряем, а должны рожать, желательно, семерых детей минимум — в стране же демографическая яма. У нас, к слову, и правда было много девочек в группе — целых шесть из 25 человек. И всем по 19 лет — половина даже не целовались.
К слову, с трудоустройством у нынешних выпускниц технических вузов проблем меньше, чем у бывших студенток женских политехнических курсов — но они есть, и серьёзные. Например, о гендерном балансе в технических профессиях речи пока не идёт: в IT и цифровой экономике в России всего 20% женщин, а в атомной отрасли (и это даже на 10% выше мирового уровня!). Да и разница в зарплатах у мужчин и женщин в технологической отрасли появляется уже на старте карьеры: например, в области математики и естественных наук она 32% в пользу первых.

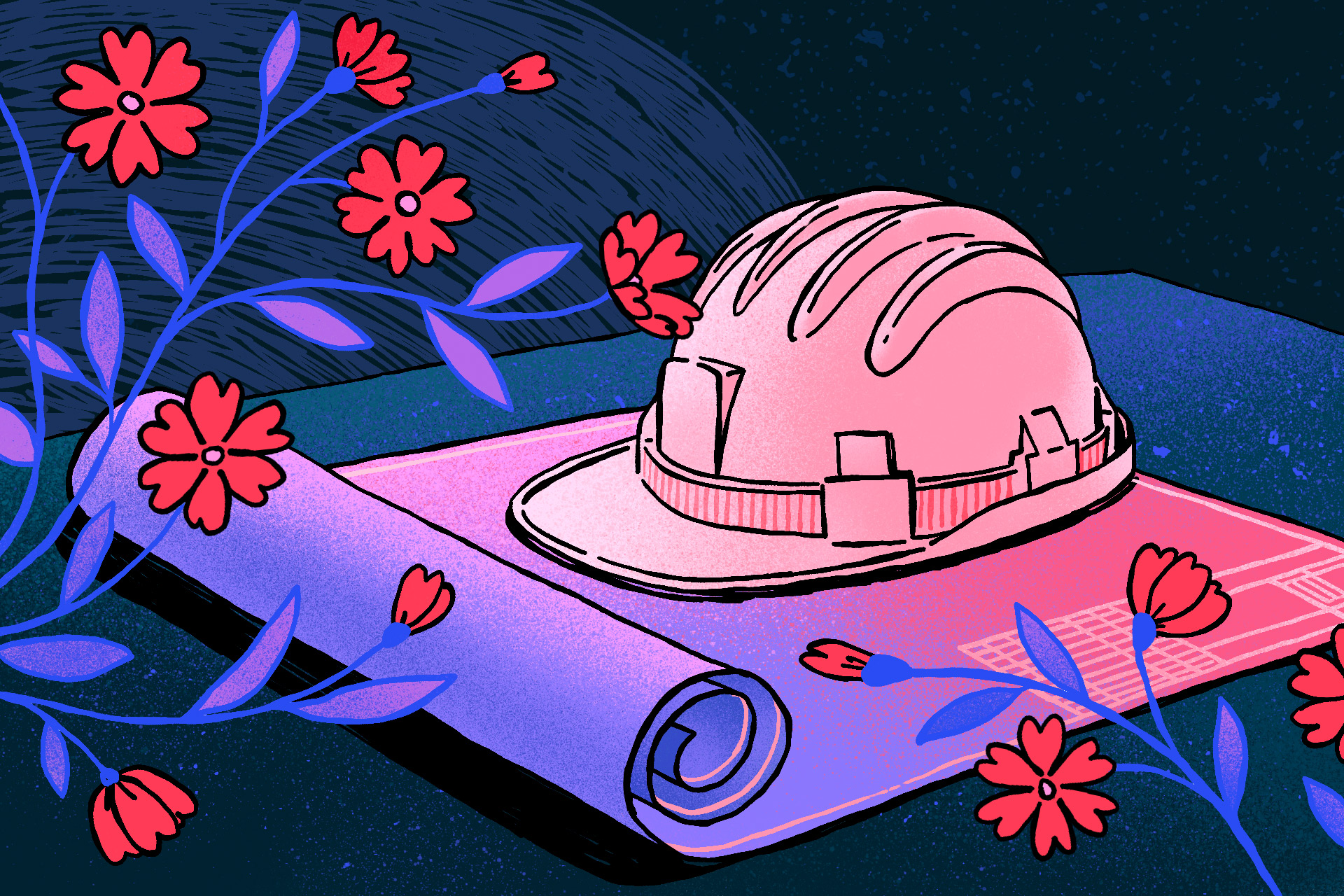




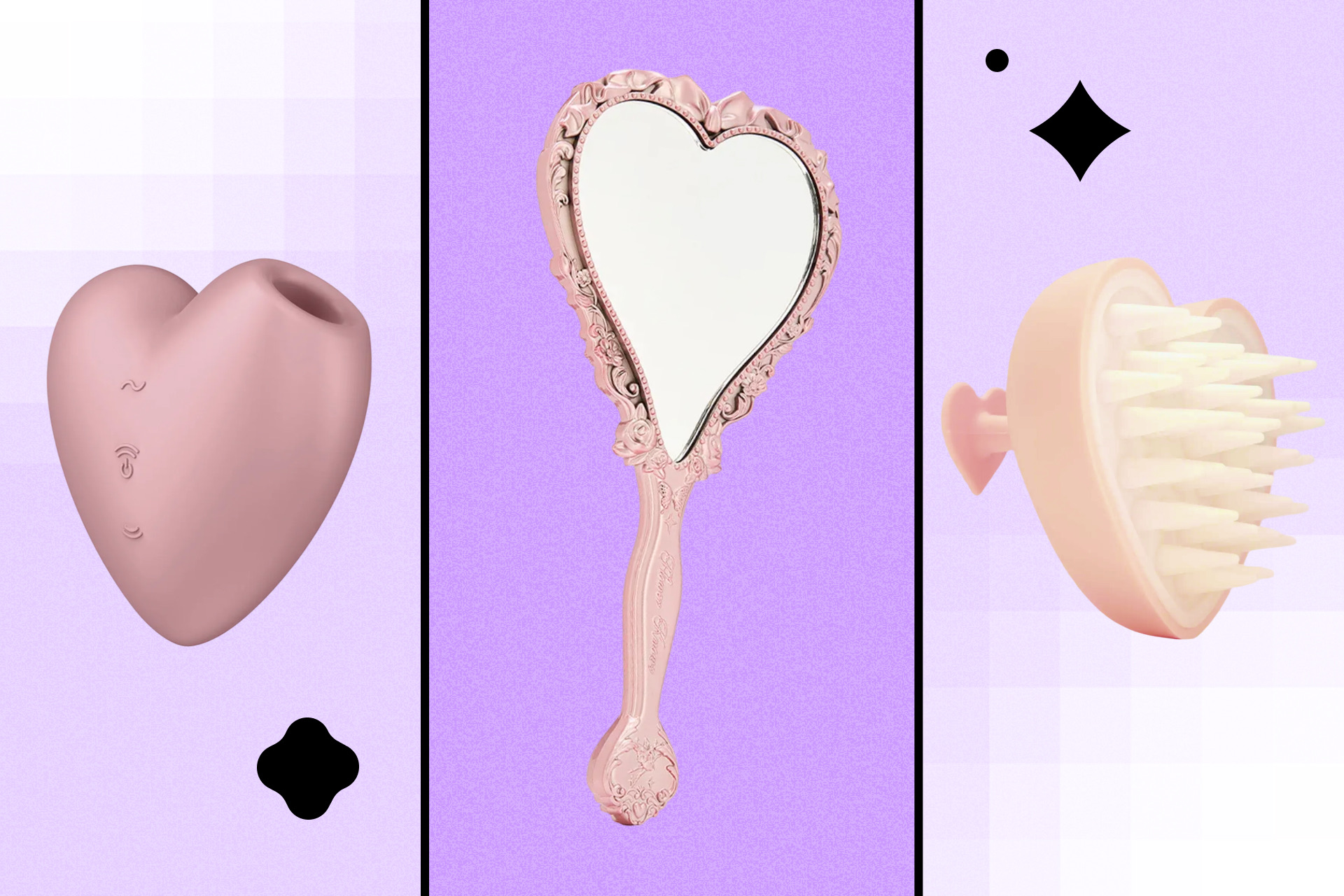



Станьте первым, кто оставит комментарий